Деревня Тихоновка и
маленькая заимка возле - Курортная...
![Картина и стихи В. Дьякова [Дьяков Василий]](/img/s/shetkowa_o_a/kraewedeniezauralxja-3/kartinadxjakowa_800x600.jpg)
![[]](/img/s/shetkowa_o_a/kraewedeniezauralxja-3/kraewedeniezauralxja-3-1.jpg)
. Ч. Издательство
|
|
|
||
Я благодарна всем людям,подарившим мне свои книги и рассказы, которые дружат со мной. Я помню всех Вас, дорогие мои. Вот и про заимку Курортную прочитала, уже в который раз... Почитайте и Вы, уважаемые читатели! | ||
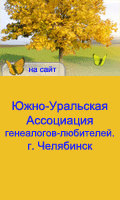
Деревня Тихоновка и
маленькая заимка возле - Курортная...
![Картина и стихи В. Дьякова [Дьяков Василий]](/img/s/shetkowa_o_a/kraewedeniezauralxja-3/kartinadxjakowa_800x600.jpg)
![[]](/img/s/shetkowa_o_a/kraewedeniezauralxja-3/kraewedeniezauralxja-3-1.jpg)
|